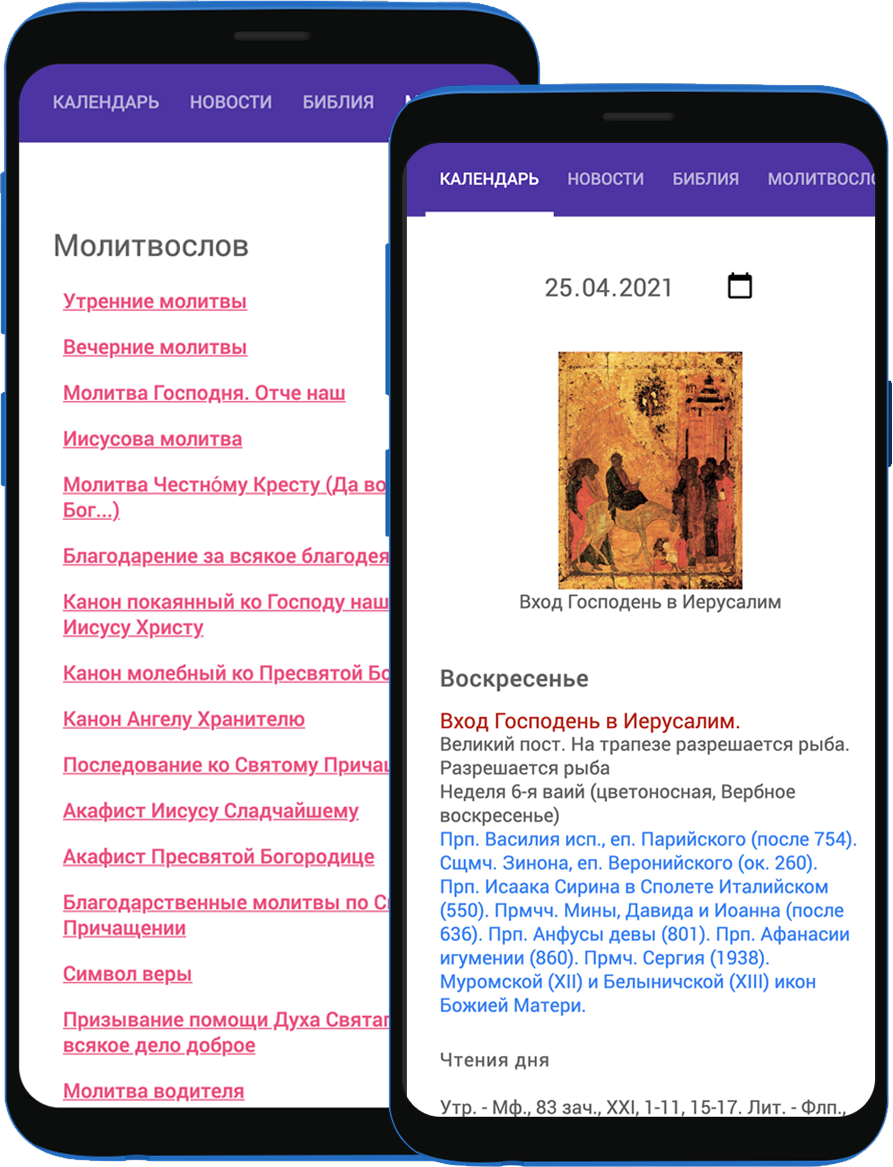Как Бог чекиста спас
ВОСПОМИНАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ АУДИО-АРХИВ ПИСЬМА ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ
Иванов Леонид Георгиевич
Опубликовано 10 сентября 2017 года
382 0
Я – генерал-майор в отставке. Три восьмёрки: 18-е августа – 8-го месяца – 1918-го года. Ну, говорят – счастливый должен быть, коли так. Родился – в селе Чернавка Тамбовской области. Мать родила как раз во время налёта банды Антонова. Думали, что жив не буду. Но – вот, вымахал… Знали бы бандиты, кого мать рожает!
Ну, семья – бедная… такая – крестьянская, можно сказать. И дед, и прадед – в деревне, работа – труд физический. Воздух. Еда – простая: каша, картошка, хлеб… где там – тюря... вот накидают кусочки хлеба, соль, лук и колодезная вода – всё, вот тюря! Хлеб – это всё-таки питание, а лук – даёт остроту.
Я это к чему говорю? Гены у меня – такие самые! Тогда – не пьянствовали так. Ни водки, ни наркотиков и так далее. Нагрузка, здоровый образ жизни. Это – одна из причин долголетия, так я себе мыслю.
Дед – я помню, Андрей – выше меня ростом, под скобку стриженный. Мать рассказывала: зимой на санях – шесть мешков. Рожь. На мельницу молоть. А оттуда уже идёт целая подвода, пять-шесть лошадей. Они говорят: «Андрей, уступи нам дорогу». Тогда дед: «А нет!» Подходит, рукой сзади раскидал направо-налево – и поехал. Вот какая сила была!
Ну, я окончил среднюю школу, получил единственный аттестат с отличием. Тогда ведь – как? Я, имея аттестат с отличием, имел право поступить в любое высшее учебное заведение без экзаменов. Приехал в Москву… была такая Академия связи имени Подбельского: на шоссе Энтузиастов, дом 109. Она и сейчас, по-моему, там. Меня сразу приняли: «Вот, пожалуйста, общежитие на четверых человек и стипендия 150 рублей». Это – деньги! – на то время. Я ничего не платил за койку, бельё – меняли каждую неделю, уборка – каждый день. Столовая студенческая – 1 рубль 15 копеек обед! Вот так советская власть делала…
Я учился хорошо, был участником парада 1937-го года. Там отбирали, а я – высокого роста, правофланговый был. С одной стороны, хорошо: близко к Мавзолею, а с другой – плохо: правофланговый не имеет право голову поворачивать, всё вперёд. Но я всё-таки рассмотрел хорошо Сталина! В профиль так… лицо – серьёзное… и – Молотова. На Молотове – почему-то перчатки. Такие кожаные, коричневого цвета… это что-то вот в памяти осталось.
Получил очень скоро комиссию: видимо, я был на примете… и, когда был на III-м курсе, меня вызвали. Куда? Прихожу – работник НКВД: «Вот мы вас рекомендуем в органы». Я ему: «Товарищ Сталин – что говорит? «Кадры – должны быть образованные»! Вот давай, окончу Академию – тогда пожалуйста». Отстали вроде. Через два дня – опять: «Ты комсомолец?» - «Да!» - «Обстановку понимаешь?» - «Понимаю…» Ну, пришлось согласиться.
Это – 1939-й год. И я, значит, в сентябре – школа: Серовский переулок, сейчас Шуховская, вот там где-то башня стоит на Шаболовке. Напротив как раз было здание – вот я учился там год. Был старшиной курса, выводил школу, курсы – на прогулку, песни горланили, девки за нами гужом бегали…
- Что Вам там преподавали, какая была подготовка?
- Так называемые «спецдисциплины». Одна, вторая, третья… Одна – по работе с агентурой. Другая – как подследственных допрашивать. Третья – как наружку вести, и так далее. Четвертая – как строить отношения с командованием. Вот такие дисциплины…
И – были юридические: ну, уголовный кодекс, процессуальный… Военное дело: стрельба там, знание структуры Вооружённых сил – всё это было. Русский язык был даже, литература: чтоб только был грамотным!
Подготовка была – разносторонняя. Причём перед нами выступали не какие-то там преподаватели, а действующие работники аппарата: солидные, с большим опытом. Их лекции мы конспектировали в специальные тетради, которые сдавали в секретную часть: при себе – не имели права держать. Поработали – сдали. Вот так было организовано.
По окончании школы всем присвоили звание – два кубика, а мне – три: через ступень выше. Мне ещё 20 лет, а там – три кубика! Я – единственный! – тянули... и – оставили на работу в Москве. Тогда говорю: «Нет, я – только там, где боевой участок!» Там ещё старший: «Что ты, дурак? Это редкое дело, соглашайся». Я говорю: «Нет, нет, нет!»
И тут как раз был период – освобождали Бессарабию и Буковину. Я с войсками в Буковину и вошёл. В Черновцы. Там же не было никакого управления: создавали управление НКВД, и я в нём работал – с нуля! Значит, я был вначале пом. уполномоченного, через два месяца – старший уполномоченный, а ещё через четыре – зам. нач. отделения СПО. Что такое СПО? Секретно-политический отдел. Отделение было – двенадцать человек, все – старше меня, но… я – считался такой «из Москвы, окончил школу» и так далее.
Чем занималось отделение? Борьба с украинскими националистами. Было их много, и некоторые были связаны с Абвером (с немецкой разведкой), хранили оружие, готовились к борьбе с советской властью. Значит, тенденция – какая? Призывного возраста – как бы, как говорят, «откосить». В армию – не хотели идти, хотели оставаться на своих местах.
Ну, что? Мы – вели работу, арестовывали... В нас, в меня – стреляли, и я – стрелял на поражение. А что делать? Дело такое.
Такой пример приведу. Надо было арестовать одного крупного националиста. Я – старший, со мной – два работника. А там – горы, лес, дождь, дорога грязная, пока это нашли село... А наверняка – ещё не знаем. Собаки лают, стучим: «Микола?» - «А Микола где-то там». Ну, пока нашли этот дом, где Микола живёт, заходим в хату: «Миколы нема». Ну, нема – нема… значит, надо что делать? Обыск проводить.
- Я – на чердак, а ты что?
- А я пойду в клуню (сарай: там, где сено, солома)…
Открываю ворота – запах сена, мыши бегают, пищат. Что делать? Надо ползать с фонарём, искать, если он тут лежит. А я так думаю: если он будет по фонарю стрелять – руку – так, далеко… [Показывает.] – думаю: он будет – на свет. Ну, в руку ранит – Бог с ней: это же не в грудь!
Вот так ползаю, ползаю – завалился, упал. Щупаю – ага, кожух такой… шерсть баранья, и – тёплая! И – только тенью так мельком виден был, слышу – какой-то внизу звук! Я – кубарем скатился, только упал – по мне – три выстрела! Я в ответ тоже выстрел дал. Тишина. Запах пороха…
Ну, думаю: «Что делать?» 12 часов ночи. До утра сидеть – или как? Думаю: он – хозяин; он там, может, уже ушёл, он знает все ходы-выходы… а может быть – лежит ждёт, пока я шевельнусь: по мне ещё стрельнуть. Тогда я отполз метра на два, на три в сторонку, в левой руке быстро включил фонарь. Смотрю – лежит такой… скрученный… значит, всё-таки я его укокошил.
А потом, как оказался – руководитель провода районного этого. Районная управа по линии ОУН. И у него список человек на сорок пять националистов! Мы уже некоторых знали. Вот это – как к примеру.
Ну, забегая вперёд – когда мы освободили Кишинев в августе 1944-го, я был в 5-й ударной. Команду дали: «Армию – под Варшаву!» И мы, значит, следовали там эшелоном. Начальник отделения армии полковник Карпенко и я – едем в район Ковеля на машине «Виллис». Какая-то погода мрачная такая, капает, лес какой-то тяжёлый, и – никого нету. Захотели пить. Ага, смотрим – дом лесника на пригорке. Я говорю: «Пошли». А я же уже обстрелянный, я и в атаки ходил. Водителю говорю: «Ты будь бдительный: если мы задержимся и услышишь какие-нибудь выстрелы – беги и действуй по обстановке».
Вот мы зашли в хату – такой, значит, обросший весь… смесь русского языка, немецкого, польского. Но – понял, что нам вода нужна. Показывает: вёдра пустые, надо выйти. Мы ему разрешили, и это – наша ошибка! Этого нельзя было делать. Но мы же не знали… мы были на юге, под Кишинёвом, и мы же не знали, что и там ОУН-овцы уже действуют в лесах! Мы же только-только прибыли!
Через три минуты заходят два перепоясанных здоровых мужика с ружьями: «Ложись!» Пистолеты – не успеем: убьют. Легли на живот… я и этот полковник. Я говорю так по-мирному: «Ну, ребята, чего вы так с нами-то? Всё-таки мы же свои. Мы же освобождаем Украину. Я был здесь в период обороны Одессы, вот сейчас освобождал её. А это – полковник Карпенко, вообще щирый украинец…» и так далее. Тяну время, чтобы водитель догадался, что нас – долго нету. А один говорит: «Слушай, а чего тут они болтают? Давай их в лес отведём: пусть начальство разбирается».
Отвели бы в лес – сейчас бы с Вами не сидел.
Но водитель наконец-то смикитил, что нас долго нету. А он не видел, когда те входили: они – с заднего крыльца. Он вскочил в эту хату – стоят два к нему спиной. Раз! – с автомата – прикончил. Мы тогда выбежали, засели в кусты, смотрим – ничего нет. Вернулись, обыскали – и у одного нашли пять красноармейских книжек! Значит, они уже убивали красноармейцев – и собирали книжки. И ещё у одного – инструкция, как строить схроны. Укрытия. Я – к командующему бригады: доложили об этом факте. А ещё перед этим был случай, когда в одной хате отделение в семь человек было всё вырезано. Значит, мы поняли: дело рук украинских националистов. Команду дал, телеграмму: повысить бдительность охраны и так далее, подозрительных задерживать… постарался такую серьёзную телеграмму дать.
- Как Вы узнали о начале войны с Германией?
- Когда я в Черновцах работал – перед самой войной – поехал на границу с задачей на два-три дня: проверить, какие там есть немецкие части. Мы под этот вариант имели агента хорошего (у него родственники были там за границей)… И – фотоаппарат. А, если через границу меня пропускать – надо договориться с пограничниками, выбрать место, когда – и так далее, рекогносцировка... Вот я приехал – а на рассвете уже пошли боевые действия: по заставе огонь и так далее. Ну, я – не пограничник, но думаю: что я уеду? – скажут: «вот, струсил». Я остался… дня три там вместе с пограничниками. Ещё советский народ не знал о нападении Германии – а я уже держал бой…
Это к чему говорю? А войну я закончил в Берлине, был в зале подписания капитуляции. Ещё народ не знал о Победе – а мы уже по сто грамм тяпнули. Вот такое вот у меня в жизни получилось. [Смеётся.]
Иванов Л. Г. крайний справа, у Рейхстага
В Черновцы прибыл – по мне стреляли. Значит, не всех мы арестовали. С подвалов, с чердаков тогда… лежат – фуражку пробили… ну и так далее там. Я – сразу с просьбой в Особый отдел: в Вооружённые силы, в армию! Сразу как-то этот вопрос решился – и где-то 1-го июля нам дали направление в Одессу, Одесский военный округ. Я и ещё человек шесть-семь. Это только июль-месяц, ещё немец там не был. Мы добирались – тяжело. Там и всякими машинами попутными, и пешком…
А было такое, значит, в начале июля (это ошибка была): напечатали в газетах, что немецкая разведка забрасывает своих агентов в форме офицеров НКВД. А я ведь – в форме НКВД пока ещё, не в армейской! И вот я в Кировограде отличаюсь от местных: форма такая новая… Меня задерживает группа. Я говорю: «Ребята, я же вот!» - «Ага, какие Черновцы?! Давай тут с ним расправимся!» Я: «Да вы что?!» - «Нет-нет, давай!» Тут скопилась целая толпа. А там шёл один работник местный, он меня уже видел, говорит: «Давай я тебя заберу, пошли вместе. Так, он со мной идёт!» Потом я уже подошёл к часовому – удостоверение, он: «Тю…» Я говорю: «Да, сотрудник». А были случаи, когда вот так сотрудники погибали действительно. С ходу – раз! – и всё. Народ злой был там и так.
Вот прибыли где-то числа 10-го июля. Я там стал уже старшим уполномоченным. И – первая бомбёжка, серьёзная такая. Там гостиница «Красная» была, обком партии, вот этот театр такой знаменитый на всю Европу был – туда тоже попала бомба, и так далее. А тут, значит, начальник отдела округа, полковник Перминов, в конце июля собрал состав: говорит, что Одесса будет окружена. И мы, Одесский округ, все эвакуируемся. Останутся тут работники, образуют Особый отдел Приморской армии. «Я, – говорит, – не буду назначать. Кто добровольно хочет остаться?» Ну, я в числе первых и вызвался.
И уже округ ушёл – а я остался в Особом отделе Приморской армии. Одесса была окружена 5-го августа: полная блокада. Мы занимались работой, выявляли агентуру и дезертиров.
Потом там такой район – Дальняка, это километров десять от Одессы; там была 25-я Чапаевская дивизия. Вообще, войск было мало: три дивизии всего. Ну, там авиационный полк, ещё части… примерно 42 тысячи наших. Против – румынская армия вся, и немецкие части. Ну, румыны – вояки плохие, били их страшно. Было это всё в районе Дальняка. Там я вот так выходил [Зажимает нос.]: вонь стоит, они в этих шапках таких... одежда такая плотная… даже можно лежать на голой земле сырой – и ничего, не простудиться. Но вояки – плохие.
Там моряков было много со списанных боевых кораблей: одеты в армейскую форму, но когда идут в атаку – расстёгнут воротничок, тельняшка видна, бескозырку в зубы, чтоб «полундра» – и вперёд. И вот я там впервые пошёл в атаку. Я же не буду сидеть! И – до сих пор помню: бегу, смотрю – десять человек лежат. Я думаю: «Чего же они лежат, чего они не бегут?!» Потом – доходит: «Это же убитые!» Вот так, значит, первая такая атака…
Мало кто знает, но в сентябре 1941-го года положение было страшное… была опасность, что немец займёт Одессу. В Военный совет – телеграмма Сталину, что – положение тяжёлое, есть угроза захвата. Буквально теперь об этом, правда, не пишут, но – через два-три часа – от Сталина телеграмма: «Прошу героических участников обороны Одессы продержаться два-три дня. Будет подкрепление». Верховный командующий! – не требует, не приказывает, а – просит.
И вот командиры взводов в окопах солдатам говорят: «Ваня, Сталин прислал телеграмму, просит продержаться два-три дня». Так вот эта просьба – в психологическом плане – она воздействовала сильнее, чем приказ стоять насмерть. Продержались три дня, пришло подкрепление из Новороссийска – и всё, продержались!
Ну, было, конечно, положение тяжёлое, потери были и так далее. И 1-го октября Сталин дал команду Одессу эвакуировать. Почему? Потому что немец подходил к Перекопу и была угроза захвата Крыма. А если займёт Крым – Одессе точно каюк. Ну, что? Из Одессы раненых – куда? В Крым. Боеприпасы – откуда? С Крыма. Ну, и другие… В общем, Сталин дал команду. И наша задача состояла в том, чтобы противник не знал, что мы готовимся эвакуироваться. Иначе, если он узнает – он тогда «на плечах» ворвётся... всё, потеря будет сплошная.
Мы проводили большую работу: заслали там женщин под видом «к родственникам», немцы их опрашивали – они говорили, что там окопы роют, войска идут, настроение боевое, то есть об отходе – и никакого намёка нет. Один мальчишка там тоже был заброшен. Мы его зарядили: «Давай, говори им вот то-то, то-то там…» А потом по нашему указанию к машинам, идущим к фронту, деревья привяжут – пыль столбом: вроде «войска идут». В общем, полная дезинформация была. Сработало. И 16-го октября 1941-го года – все войска были выведены до одного, все. Каждому полку был известью проложен маршрут в порт, там уже – пароход, всё организованно… и лошадей, и всё забрали. Вывели – полностью.
А чтобы была иллюзия, что войска на месте – где-то пулемётчик, автоматчик – стрельбу вели… всё-таки – вели. И пришли боевые корабли в Одессу, громадные. То есть показать, что оборона – на месте, живёт и никуда не уходит.
Ничего не знал противник, целые сутки потом боялся входить в Одессу: думали, что это какая-то игра со стороны русских. А потом вошли – а там был дом такой известный, и они устроили в нём пьянку человек на пятьсот… а мы заранее сработали, заминировали в подвале… потом – кнопку, и – всех.
Что интересно – 16-го октября 1941-го года я в числе последних защитников оставил Одессу. На Севастополь. А 10-го апреля 1944-го я с войсками первым в Одессу вошёл. И сейчас я – единственный во всей стране, который последним ушёл и первый вошёл. В Одессе обо мне знают. Они в газетах печатают портреты мои, такую и мне прислали… когда там праздники – вспоминают, желают здоровья…
Вот приглашали приехать: «Вроде ж Вы Почетный гражданин Одессы!» Я говорю: «Ребята, я приехать-то, может, и приеду, а – уеду ли?» Потому что приехать – я же не буду сидеть: надо поехать в район Дальняка, там выступать, потом приёмы... Это же всё нагрузка. А всё-таки же мне 95 лет... В общем, отказался. А они – и на день рождения мне прислали, и в общем звонят, и так далее.
Под Севастополь, значит, пришли, и – сразу войска на Перекоп. Потому что там уже было известие: немец ворвался на Перекоп, идёт на Евпаторию. Уже грабят Крым направо и налево.
Петров – был командиром 25-й Чапаевской дивизии, а командующим был – Сафронов. Но он заболел, и буквально за два-три дня до эвакуации этот Петров стал командующим. Умный! Он участвовал в бою – и потом у него голова стала так вот. [Показывает тик.] Ездил по переднему краю такой с хлыстиком, интересный. Генералом армии был, командующим фронтом был, но Сталин не очень его ценил. Считал его мастером обороны, но не мастером наступления, потому что он и в Одессе оборону держал, и в Севастополе. Поэтому так с ним немножко недооценённо в общем вышло, был такой взгляд. Ну и вот решали вопрос, куда отходить. Петров – он правильно понимает: Севастополь есть Севастополь. Там и артиллерию боевых кораблей нам тогда дали, оснащены, всё...
А я – оказался в районе Керчи. И вот мы в ноябре 1941-го года через Керченский пролив эвакуировались на Кубань, хотя там можно было держать оборону. Там был Кулик, маршал, он должен был её обеспечить. Но – по его вине мы в конце октября оставили Керчь. Её можно было держать, а он проявил такое... вообще, развратный был тип. Проявил трусость, потерял звезду Героя и так далее. Потом его вызывали в Москву, было присутствие, разжаловали до генерал-майора, понизили в должности, а потом, в конце концов, расстреляли. У меня дело и на него было, и на других, и на Жукова в том числе. Я там много знаю…
Так вот, тогда мы оказались в районе Крымска. Потом я был с батальоном на Тамани. А потом – 1942-й год – Керченско-Феодосийский десант знаменитый, первый крупный десант. Значит, освободить Керчь и весь полуостров: Феодосию и так далее. Ну, какая там техника?! Баржи! Вечером – поплыли. А из Азовского моря – течение сильное, льдины: думаю, могут цокнуть – и утонет. Подплыли к Керчи на рассвете, немец – не ожидал. А пирсов – никаких нету: по грудь в морскую воду бросались, температура – пять-шесть градусов! Я, конечно, там лёгкие застудил и потом мучился здорово: и воспаления, и бронхиты. Сейчас, правда, уже вроде ничего особенного.
Керчь освободили – там было на площади семь повешенных партизан, а Багеров ров такой, недалеко – 7 тысяч расстрелянных. Это впервые пошло известие о массовых расстрелах немцами советских граждан. Евреев, других...
И вот фронт остановился под Феодосией. Так называемые Акмонайские позиции. Всего фронт – 21 километр. Три армии: 44-я, 47-я, 51-я. Я был в 51-й армии, уже уполномоченным стрелкового батальона стрелковой бригады.
Ну, воевать не умели ещё, был приказ – «тревожить немца». Что значит «тревожить»? Ходить в атаки каждый день. Ну и что? В атаку пошли, потери понесли, а – никакого толка. Мехлис был, член Военсовета: он мнил о себе, что он «посланник Сталина» такой. Негодяй натуральный, в военном деле не разбирался, но – поймал командующего. Козлов такой был, умный человек, разбирающийся – так вот, говорит, «посланник Сталина» и командовал всё время! Опыта-то – никакого нету! И вот столько войск по плотности! [Показывает.] Крымский фронт – был самым насыщенным из всей линии советско-германского соприкосновения. Вот куда ни бросит снаряд [Немец.] – обязательно кого-нибудь убьёт.
И вот, значит, я был уполномоченным. Но – надо же! – в атаки ходил всё время. С комиссаром поднять в атаку. А что поднять в атаку? Рвутся снаряды, мины, свист пуль, гарь. И вот это надо первым, чтобы показать пример. В газетах писали, что, значит, идут в атаку, кричат: «За Родину, за Сталина». Никто не кричал. Не потому что Сталину не верили, а потому что батальон по фронту бежит – 120 метров. Чтобы всем организованно крикнуть – надо кому-то руководить. А как это?! А самое главное – когда бежишь, дыхание не позволяет кричать, дыхание! «Ура» ещё – «ура» – это пожалуйста. Но когда если там кто-то один только из окопов выбегает – пока ещё не бежит – он одиночно может крикнуть «За Родину», как командир взвода. А так, чтобы организованно – этого не было.
И вот, значит, в атаки ходили – беспрерывно. Там никаких этих землянок, окопы все – обвалившиеся, грязь – по колено… вшей, бывало: ага, три штуки! – ага! – не глядя, пять штук туда к немцам бросаешь – и так далее.
С водой – плохо так… набираешь воду, вдруг там – убитого нога. Хлорку давали. Бросишь её, разболтаешь во фляге, пьёшь – никакой заразы.
Старшина как-то в 12 ночи доставил термос с горячей пищей и три-четыре фляги с водкой (днём нельзя – убьют). А там не водка, а сырец какой-то. Везли явно в цистерне, где был керосин: жутко воняет… кружка ещё такая громадная, грамм триста. Темно тут, летают ракеты, слышим: «На благо Родины!»… – ну всё, готово. Руки все – опухшие, глянцем покрытые, не слушаются. Двумя руками берёшь, тянешь-тянешь: а что тут? Селёдка. Где? Ага, нащупал. Берёшь, хрустишь песком. Ну, водка – и ни в одном глазу, но – дезинфекция. Никто же не болел: ни гриппа, ни насморка – ничего не было. Потому, что ещё напряжение такое… тоже оно не позволяло там раскиснуть.
А потом – я же работать должен! Кроме того, что ходить в атаки – у меня же работа оперативная: встречаться... Я вот обычно в 12 часов поем, в окопе в углу прижмусь, палаткой накроюсь, часа три покемарю, потом палатку снимаю, шинель снимаю, в куртке, и – ползать. Ну, там рядом, но всё равно ползать.
Немец ночью не бросал ни снаряды, ни мины. Трассирующие пули. А трасса – видно, как идёт.
Ползать я по-пластунски не любил: лучше перебежки. Вижу, что очередь – ага… «тюк-тюк!» – побежал дальше. Вот там вот часа три ползаю, встретился с кем надо, информацию получил… о настроениях, кто там к измене готовятся, как и что, потом прихожу к командиру батальона, к комиссару, говорю: то-то то-то, и – записку начальнику контрразведки бригады.
Вот такая работа тяжёлая… перед вражескими позициями. Симонов очень хорошо описал. Когда я читаю – сердце болит, ей-богу. Ужасно, ужасное состояние было…
А 8-го мая 1942-го года, значит, авиационный корпус Рихтгофена пробомбил левый фланг фронта к Феодосии, пустили танки, немец вошёл в тыл всего фронта… а у нас были – КШР-ы. Что такое КШР? Кабельно-шестовая рота. Радиосвязь была – малая, вот – проводная связь: шест и провода. А что? Свалил шест – и всё, связи – нет. Нет связи – нет управления. Вот он порвал все связи: полковые, дивизионные, фронтовые. Никакого управления. И пошла паника. Все – убегать в Керчь, к проливу, чтоб перебраться. А ведь – сотни тысяч!
Я – к командиру батальона: «Стоять – твёрдо, батальон – в руках, будем держать бой, отходить организованно». Помню, отходим – а там, значит, пушки стоят. Чистые, смазанные, штабеля снарядов – и никого нету. Все сбежали. И вот я говорю: «Хорошее место, давай займём оборону». Заняли оборону. Идут немцы. Видно: идут – спокойно… что-то пнут ногой так... Но – стреляют, а пули – уже на исходе: убойной силы не имеют. А справа и слева танки обходят и стреляют болванками. Она – «вууууу!»… Такое впечатление было!
И – да, шла паника. А паника – страшное дело. Два, пять… как побежали! Я – с пистолетом: «Твою разтакую, это самое, стоять!» Думаю: «А где же комбат?!» Смотрю – там, значит, какой-то камень... он сидит… я подбежал – а у него глаза бессмысленные, губы пересохли, языком облизывает. Я – левой рукой за воротник, говорю: «Именем советской власти – расстреляю, если не возьмёшь себя в руки и не будешь командовать!»
У меня была задача – вывести из шокового состояния. Вывел. А если бы не вывел – пришлось бы расстрелять. А что делать? Расстрелять одного – или весь батальон погибнет?! Если бы расстрелял – сам бы взял на себя командование батальоном. Я уже опыт имел…
И потом батальон отходил организованно с боями до Керчи. А под Керчью – всё смешалось. Сотни тысяч – и никакого управления! Ни команды, ничего! Вот как на базаре толпа. И офицеры, и полковники, солдаты – в куче… Такая безысходность, такая морально тяжёлая… ну, с ума сойти. Что такое?!
Значит, переправа на кубанский берег. А там она – тяжёлая! Он [Немец.] – бомбит, потери – страшные! Я оказался в районе за Керчью: маяк… там село – Маяк. Держали бой, ну, без всякой команды, сами просто, стихийно. А потом нас уже к берегу прижали, смотрим – немцы идут. Уже кто стреляется, кто петлицы рвёт… некоторые руки подняли, другие упали, ползут и так далее. Агония. Думаю: что делать?!... – ну, стреляться надо.
Я там выбрал какой-то валун, встал за него, мыслей – никаких. Как-то присел на правую ногу, поднёс пистолет. Тут что-то… смотрю – моряк с автоматом: «Братцы, отгоним гадов немцев, вперёд, за мной, ура!» Никто на меня внимания не обратил... и всё. И все пошли: и здоровые, и раненые – ну, и я в том числе. Отогнали немцев аж на три-четыре километра! Отогнали...
В общем, буквально, я говорю: в жизни каждого человека имеет большое значение случай. Вот остановись я стреляться не около камня, а чуть подальше – всё. Или моряк появился бы буквально на три секунды попозже – всё, меня бы не было. Всё вот так.
А там я встретил случайно начальника своего. Говорит: «Там пирс один, иди, организуй переправу – только раненых!» А как «организовать»?! Десятки тысяч стоят! К пирсу – не пробьёшься: плотно! Я нашёл какую-то тряпку красную, нацепил, вроде «официальное лицо» – да кто внимание обращает?!
И тут – смотрю: самолёт немецкий… и наша зенитка первым снарядом – в хвост! Вот так всё: огонь, дым – и он падает прямо в эту толпу. Стали разбегаться. Ну, думаю – каюк… А тут вижу – такая кладка, метров сто пятьдесят, цемент такой. Я – туда, за эту кладку! Залёг – самолёт там упал, взорвался, осколки пролетели, жив. А – уже пирс-то почти чистый! Я пробрался к нему, сумел, собрал там майора одного, капитана, говорю: «Вот так, ребята, стоять тут!» И уже снова сразу скопились тысяч пятьдесят! Я: «По указанию высшего командования – сажать только раненых!» Какое «высшее командование» – я и сам понятия не имею. И вот что: ходит там рыбацкая шхуна: значит, через пять-десять-пятнадцать часов. Ну, двадцать человек посадит – и всё. Я: «Только раненых!» А – все рвутся! Мы стоим – не пускаем. «Только раненых!» Это же видно, когда раненый. И свои – видят, что я закопёрщик главный… я вот стрелял – но не убивал. Я стрелял хорошо: или в плечо, а если в ногу – то чтобы в мякоть. И потом дней пять я там был на пирсе: не спал, не ел, оброс… видимо, страшный… в каске. У меня была фляга – там половина спирта, половина морской воды, и – песок. Вот так разболтаю, два-три глотка сделаю – всё что-то такое…
В воду посмотрю – столько трупов! Убитых этих, утонувших. Кто в шинели, кто в куртке… вот так, вертикально… А волна идёт, впечатление – что они вроде маршируют. Я вот всё у врачей спрашиваю: «Почему вертикально?» Видимо, сапоги: вода тянет. Все – вертикально. Ну, думаю – через минуту я тоже могу там оказаться. Страшная картина, это невозможно передать. Вот, несколько дней. Ну, придёт через десять часов эта рыбацкая – ну что там… Организации – никакой не было. Мне один там капитан: «Слушай, видишь? Все пропадём…» Я говорю: «Ни в коем случае! Стоять до конца. Если ещё что заикнёшься об этом – я расстреляю. До конца стоять. Никаких этих отходов, не бросать!»
Вдруг смотрю – несут четыре грузина на носилках высоко – командир дивизии: голова – повязана. Тогда ещё погон не было – четыре шпалы: это полковник, значит. А никто не пускает их. Ну, я там как-то распорядился – пропустили. На пирс его положили. Смотрю – лицо розовое, смотрит. А я уже знаю: когда человек раненый в голову – он бледный, глаза закрыты. Я говорю: «Ну-ка, развязать мне». Смотрю – никакого ранения нет. Все увидели, орут: «Расстрелять полковника!» Ну, думаю: я имею право расстрела всё-таки... а вокруг кричат: «Нет – так тебя самого расстреляем!»
Ну, что делать… поставил на край пирса, левой рукой за грудь, пистолет… и он – на моих глазах поседел, стал седой. А тут снаряды летят, мины рвутся, пули, грохот. Я ему: «Слушай, полковник, я выстрелю!» А у меня что-то тут сердце дрогнуло… «Выстрелю – мимо, а ты туда падай в воду, как будто убитый». Я так выстрелил, чуть толкнул его – он упал в воду. Дальнейшей судьбы его – не знаю.
А тут через некоторое время – уже опять: всё, конец, уже вот снова немцы подошли. Да что ж делать?! Надо опять стреляться! Ну, где?! Нужно на пирсе. Сел на него только, а тут – мотор: «пых-пых-пых»… Последняя рыбацкая! А он уже знал меня. Меня ребята с рук бросили, сели, говорю: «Быстро!» И – уже по нам прицельный огонь, обстрел. Значит, человек пять было убито примерно или шесть – не помню… раненые... а там был какой-то ящик с инструментами небольшой – я как-то изловчился, изогнулся так, лёг… в общем, остался жив.
Подходим… там такая коска – Чушка называется – идёт в море километров на пятнадцать. Где пятьдесят, где сто метров, песок такой мокрый… ну, подплыли – я бросился на него… спал – не знаю… может, часов двенадцать… или сколько. Открыл глаза – Керчь видно. Горит, дым стоит и так далее. Ну, что делать? Надо идти в Краснодар: там же этот фронт… Северокавказский. Пешком. Там ещё кордон Ильича. Ага: колодец, ведро. Смотрю – вода! Дно – видно! Ты смотри, какая вода такая чистая! Я как прильнул к этому колодцу! – пил, пил вот так… а потом – пешком: этот… Темрюк, по-моему, Глубинка и – в Краснодар. В Краснодаре мне ещё: «Удостоверение!» - «Нате».
И под Темрюком – по-моему, старший лейтенант… или капитан… и два солдата: «По приказу командира дивизии – сдайте пистолет!» Я говорю: «Я не офицер вашей дивизии – и приказ её командира мне не закон. Пистолет сдавать – не буду!» - «Тогда мы вас арестуем и силой отберем оружие». Я говорю: «Если вы такие действия предпримете – я, как офицер Особого отдела – применяю оружие». Достаю пистолет. Они так переглянулись… а я пошёл. Ну, думаю: стрельнут? Нет, не стрельнули. А вообще – это уже было практикой на других фронтах: когда части отходили, командиры там, которые шли – у них отбирали… и расстрелы были, и убийства. Это неправильно. То есть «вы – бежите, а мы, дескать, остаёмся – давай оружие». Вот такая вещь.
Когда я получил направление в 32-ю дивизию– побыл там двадцать дней. Потом – команда мне: в Мечётинскую. Станица под Ростовом. Там – Особый отдел 51-й армии. Старшим уполномоченным. Отделение, которое руководит всеми дивизиями, корпусами – это важное отделение. Прибыл в Мечётинскую за четыре дня до сдачи Ростова. Если бы позже – я бы не знал, что бы я делал. Ещё не был в ней – у меня что-то ноги заболели. Ну вот сидел там под Керчью в окопах – и не могу снять сапоги. Ребята пришли, девчушки – не могу! Одна там, Тоня Хрипливая – ножницами разрезала, а там – вшей! «Ты, Лёнька, когда купался?» - «Да я не знаю, я не помню…» И девки меня стали тащить в сарай. Я говорю: «Куда вы, ёлки-палки?!», ругаюсь… Затащили в сарай, раздели – и начали купать. Вода холодная, мочалка… И – потом принесли бельё. Главное – чтобы вшей не было! Всё, что должны были – всё заменили. Если хоть одна гнида останется – вши опять пойдут. Вот я так вздохнул… хоть как-никак всё-таки искупали… думаю: ну, спасибо! Они уже потом, когда позже, уже когда наступление, зовут в баню: «Лёня, пошли с нами, ты теперь наш, ты у нас свой». Ну, так уже, в порядке шутки...
А тут – пошло уже: значит, сдали Ростов… приказ Сталина 227-й… острый приказ такой, тревожный. Чувствуется – писал сам: его почерк, его рука… значит – создать заградотряды, штрафные роты, батальоны и так далее. Мы стали зондировать реакцию личного состава на приказ – только всё положительное!
Но – были отдельные замечания… какого порядка? Приказ – опоздал, надо было раньше издать, когда сдали Харьков. Перед этим – Харьков был сдан, там 30 тысяч в плен попало. Вот тогда надо было издавать приказ. Это – одно замечание.
Второе: что нет чёткого определения, за что в штрафные роты и за что в штрафные батальоны. За что? Там просто написано: «За проявление трусости и за сдачу боевых позиций без приказа», вот так. А надо – более конкретно. Ну, такие пожелания высказывали.
В общем, отход. Немец переправил танки на левую сторону Дона, пыль, грязь, управленческий разнобой… Части отходили – кто батальон, кто группа – по всем Донским степям, никакого управления!
Командующий армией, «исполняющий» – Коломиец (я его знал по Одессе): «Вот тебе машина грузовая, пять солдат, бочка бензина, с сухим пайком. Езжай по степям: кого встретишь – какую часть там, группу – надо обеспечить Сталинград! Направляй. Вот тебе мандат, мои указания – чтобы они знали, что ты не от себя!»
И я дней семь ездил по степям этим донским: то группу встречу, то кого… говорю: «Ребята, на Сталинград!»
Однажды едем – идёт старик. Ну, как «старик»… рубаха разорвана, штаны такие короткие, в лаптях. «Кто такой?» - «Командир дивизии». - «Как докажешь?» Он сел, значит, на землю, снял лапоть, достал удостоверение Героя Советского Союза…
А – как?! Дивизия! А что эта дивизия?! Я помню, когда на Дону начальник дивизии пишет сообщение: «В дивизии семьсот человек». - «Всего?!» - «С писарями, с поварами. И у многих винтовок нету. Ждут, пока убьют солдата, чтобы винтовку отдал». Вот так вот: «Дивизия вся разбита, я остался один». Ну, мы так поговорили… «Давай, иди на Сталинград». Дали карту, покормили. Он заплакал, да и я слезу пустил там. Говорит: «Ребята, я вас в жизни не забуду никогда!» Судьбы дальнейшей – не знаю.
Потом встретили большую группу наших. Макарчук, комбат был такой боевой. Я говорю: «Вот указание». Говорит: «Я понимаю, но тут я заметил группу небольшую немецкую: я их разгромлю – тогда пойду». Я говорю: «Хорошо». Потом – действительно прибыл в Сталинград, ему присвоили полковника, командиром дивизии назначили… 32-й. И – во время наступления погиб. Похоронили в Зимниках. Хороший был командир…
Вот я так, значит, дней семь… больше! – по калмыцкой степи захватил. Уехал далеко-далеко там… ночь едем – ага, надпись, знак: «Элиста». Вот заехали! Давай обратно.
Потом – под Сталинградом весь период… ну, там бои, всё прочее… Жуков приезжал, помню... такой, в кожаном пальто… конечно, никто не знал, старались все держать в тайне: потому что если немец узнает, что приехал Жуков – значит, что-то такое намечается на дворе. Главнокомандующий, член Совета! И – 20-го ноября пошли в наступление.
- В какой Вы части были?
- В 51-й армии. Особый отдел. Я как раз, когда наступление – был в дивизии, в 32-й. В наступление пошли – значит, приехал Хрущёв, он был членом Совета фронта. Командир дивизии: «Товарищ член Военного Совета, восемьсот человек пленных взяли!» Он: «Что так мало?! Отступление, что ли, было?!» Больше ничего не сказал, уехал. Ну, что это… «член Военсовета»… До сих пор в памяти осталось это так.
А в начале ведь пошёл Рокоссовский там северней… 19-го. 20-го – мы… А почему успех? Как раз южнее Сталинграда чуть-чуть – румынские части, а они – вояки плохие, сразу: раз-раз! Там и итальянские были, самые северные: то же самое. Поэтому это было учтено, и вот так успешно замкнули кольцо. И – пошло наступление. Вот Жутово, 2-е, Садовое там, значит – пошли-пошли, освободили Ростов, и – уже под Таганрогом.
Помню там один случай… Политотдельская – такая громадная станица! Там – 51-я армия… корпус кавалерийский Кириченко... Столько войск! Немцы как туда глянули – и как пошли непрерывно самолёты! Полк – бомбят с утра до вечера: страшная бомбёжка! Я там – с работниками (сам – замначотделения был). Стал в угол, думаю: «Сейчас – снаряд. Осколки будут лететь – голову-то не заденет». А тут – свист, грохот, шум, гам! Рядом там подвал – в подвал никогда не заходил: гиблое дело. Значит, крышу снесло, дверь выбило, окна, хата вся трясётся. Ну, думаю – всё, привет… – целый день! – с ума сойти. К вечеру как-то затихло… гарь, дым… Я оглянулся – а я, оказывается, стою – под образами! Надо мной – иконы! Вот я – человек неверующий, но – спасибо, Боженька, ты меня спас! Вот такой случай со мной был.
https://iremember.ru/memoirs/nkvd-i-smersh/ivanov-leonid-georgievich/
Там вообще весь рассказ живой и интересный.